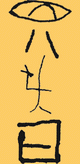«ПРОБЛЕМА ТРАНСЛЯЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ СУДЬБЫ БХАГАВАДГИТЫ»
Семенцов Всеволод Сергеевич (1941-1986).
Филолог, историк, философ, религиовед, исследователь Индии и индийской традиции.
Он из плеяды тех русских мыслителей, как А. Ф. Лосев, С.С.Аверинцев, кто удивительным образом сочетали искреннюю приверженность православному христианству с глубоким проникновением в смыслы иных традиций, культур и религий.
Именно его перевод «БхагаватГиты», соединяющий поэтичность и смысловую ёмкость, так часто используется при цитировании этого священного текста.
Нижеследующие заметки ставят перед собой двоякого рода цель. С одной стороны, нас будет интересовать историческая судьба, т. е. процесс возникновения, складывания и затем функционирования внутри определенной культурной общности высокоавторитетного священного текста индуизма — Бхагавадгиты; с другой — мы попытаемся разобраться в механизме той самой традиции, традиционной культуры, которая породила и, передавая от поколения к поколению, донесла до нас этот священный текст.
Тесная взаимосвязь обоих явлений — сакрального текста и традиционной культуры — сомнений не вызывает; однако именно Гита может служить хорошим примером того, как недостаточно осознается и, главное, учитывается в исследовательской практике эта связь. В самом деле, никто не станет отрицать, что традиционная культура — прежде всего культура, основанная на священном тексте: вне этой своей основы она не только непонятна, но, так сказать, вообще не существует.
Если же это так, то справедливо и обратное: священный текст может быть понят лишь внутри традиционной культуры, поскольку вне ее, в силу аналогичных соображений, он существовать не может. Между тем и Гита, и десятки других текстов, относимых обычно к разряду священных, сплошь и рядом изучаются так, будто они появились не в результате развития соответствующих традиций, а внутри нашей (т. е. современной европейской) культуры либо, если так можно выразиться, внезапно возникли перед нами неизвестно откуда, словно еврипидовский deus ex machina.
Чтобы восстановить здесь нарушенное методологическое равновесие, достаточно, мне думается, исходить из простого принципа: традиционная культура в не меньшей степени поможет нам понять, что такое Гита (и любые другие аналогичные тексты), чем, в свою очередь, Гита проясняет, что такое традиционная культура.
Указанная проблематика составит основное содержание данной статьи. В ряде случаев, однако, я позволил себе выйти за пределы чисто традиционной специфики, поскольку, как мне представляется, некоторые механизмы воспроизводства этой формы культуры прослеживаются также и в нашей — современной европейской — культуре.
Такое расширение темы помимо некоторых (обсуждаемых ниже) указаний самого материала диктуется также и следующим формальным соображением: если всякая культура существует лишь постольку, поскольку она передается (вообще говоря, может быть передана) от одного человека к другому, то именно традиционная культура, столь явно выдвигающая на первый план задачу «традирования», трансляции самой себя (в этом смысле словосочетание «передача традиционной культуры» обращается в простую тавтологию), может быть понята как некий крайний, предельный тип человеческой
культуры, как таковой. Разумеется, возможности такого типа культуры были небезграничны: они всецело определялись тем содержанием, которое она стремилась передать.
С какого времени следует начинать отсчет исторической «судьбы» Бхагавадгиты?
Это трудный вопрос, и ответы на него — даже если отвлечься от обычной для древней Индии приблизительности всякой хронологии — будут принимать различную форму в зависимости от того, какой смысл мы будем вкладывать в слово «Бхагавадгита».
1) Если понимать под этим тот окончательно сформировавшийся и зафиксированный (прежде всего усилиями комментаторов) текст поэмы в 700 шлок, который дошел до нас в качестве «главного» текста Гиты1, то создание поэмы (в этой форме) следует датировать столетиями, непосредственно предшествовавшими VIII —IX вв., т. е. времени создания первого авторитетного комментария на нее — Гита-бхашьи Шанкары2.
2) Если видеть в акте «создания» Гиты сложение ее основного учения (т. е. учения о божественности Кришны-Васудэвы, о его тождестве с бескачественным Абсолютом упанишад, а также о необходимости его почитания с помощью благоговейной любви, бхакти) и, что особенно важно, выход этого учения на путь широкой проповеди, столкновений с конкурирующими учениями и т. д., то поэму (в какой-то текстуально нам неизвестной форме) следует датировать приблизительно III —II вв. до н. э.3
Период с III —II вв. до н. э. до окончательного оформления «вульгаты» следует в таком случае считать временем свободного, нефиксированного существования текста поэмы, в течение которого она могла и расти (за счет вставок), и сокращаться (за счет опущений).
3) Наконец, если сузить проблему возникновения поэмы до вопроса о том, когда (и в какой форме) могло возникнуть ее «первоначальное ядро», вопроса, столь оживленно дебатировавшегося в начале этого столетия, то время появления этого зародыша поэмы следует отодвинуть еще на несколько столетий назад, вплоть до эпохи упанишад, причем не только хронологически «средних» (типа Катхи Шветашватары или Майтри), в ряде случаев сопоставимых с Гитой даже текстуально4, но и одной из старейших упанишад — Чхандогьи5.
Таким образом, можно говорить как бы об «утробном развитии» поэмы от VII в. до н. э. до III—II вв. до н. э.; затем, «родившись на свет», она продолжала расти и развиваться до VIII — IX вв., а после этого времени существует вплоть до наших дней уже в виде полностью сформировавшегося, «зрелого» текста.
Следует сразу же оговориться: все только что приведенные характеристики, вроде «утробное развитие», «зрелый» и т. д., не несут в себе никакой качественной оценки поэмы; они приводятся лишь ради усиления наглядности предложенной классификационной схемы при помощи вполне очевидной аналогии.
Это не означает, конечно, что на протяжении всех этих примерно полутора тысяч лет содержание текста не изменялось. Однако, в каких направлениях эволюционировала вместе с «телом» также и «душа» Гиты (т. е. ее смысл), мы пока не знаем, и потому одной из задач данного исследования является попытка проследить это развитие, хотя бы в самом общем плане.
Мы будем исходить из предположения — оно составит основную рабочую гипотезу данного анализа,— что существует неразрывная связь между развитием содержания данного текста и системой его передачи от поколения к поколению.
II
Согласно предписаниям грихья- и дхармасутр, священное знание (т. е. веду) должны были изучать мальчики, рожденные в семьях трех высших варн — брахманов, кшатриев и вайшьев6; таким образом, женщины и шудры из процесса передачи ведийской культуры исключались7.
На седьмом году жизни (или, как обычно выражаются тексты, «на восьмом году от зачатия»)8 ученика приводили в дом учителя и совершали над ним обряд посвящения (упанаяна); он оставался в этом доме на все время учебы — обычно 12 лет, иногда 24 года, либо 36, либо 48 лет.
В редких случаях ученик поселялся в доме учителя на всю жизнь9.
Ученик был обязан беспрекословно слушаться учителя, соблюдать обет целомудрия, спать на земле и добывать себе пропитание сбором милостыни.
Помимо изучения веды (т. е. заучивания текстов с голоса учителя наизусть) он должен был ежедневно приносить топливо для священного огня10.
После окончания учебы ученик совершал заключительное омовение, возвращался в свой дом, женился и становился домохозяином11.
Но и после этого связь с учителем (а в случае его смерти — с его семьей) не прерывалась: ученик не только был обязан заботиться об учителе, оказывать ему должный почет, а по смерти — совершать заупокойные обряды; ученик становился в буквальном (также и юридическом) смысле слова родственником учителя 12.
Такова (разумеется, в самых общих чертах13) форма передачи ведийской культуры.
Каково было ее содержание, что именно передавалось от учителя к ученику в процессе трансляции знания?
На первый взгляд ответ не вызывает сомнений: передавались священные тексты веды, так называемое шрути (т. е., согласно обычной классификации, самхиты, брахманы, араньяки и упанишады), а также вспомогательные тексты смрити (т. е. руководство по ведийскому ритуалу, грамматике, астрономии и т. д.).
Выражаясь современным языком, можно было бы сказать, что обучение в ведийской Индии, как всегда и везде, состояло в передаче учителем ученику определенной массы информации, фиксированной в текстах. Однако такая формулировка лишь весьма поверхностно и, главное, неполно отражает представления ведийской Индии о существе и смысле процесса воспроизводства культуры.
Освоение текстов, конечно, имело место, и на их заучивание тратилась, надо думать, львиная доля времени, отводившегося на обучение.
Тем не менее священный текст, при всем безграничном к нему уважении, играл в обучении скорее подчиненную, инструментальную роль; главной же целью было воспроизводство не текста, но личности учителя — новое, духовное рождение от него ученика.
Именно это — живая личность учителя как духовного существа — и было тем содержанием, которое при помощи священного текста передавалось от поколения к поколению в процессе трансляции ведийской культуры.
И этот принцип справедлив не только для ведийской Индии.
Мы можем теперь сформулировать основной тезис этой статьи:
существо трансляции традиционной культуры состоит в том, что с помощью ряда специальных приемов духовная личность учителя возрождается в ученике.
В тех случаях, когда эта передача личности имеет место, культура воспроизводится, в противном случае — нет.
Применяя формулу, хорошо известную в истории русской культуры (и одновременно раздвигая рамки только что высказанного тезиса), можно было бы сказать, что при нормальном воспроизведении культуры ситуация «отцов и детей» не может иметь места. Дальнейшее обсуждение покажет, насколько оправдана подобная универсализация.
Обратимся к текстам.
Начиная примерно с эпохи ведийских самхит (т. е. с рубежа II—I тысячелетий до н. э., а возможно, еще ранее) и до расцвета средневековых школ бхакти (XVI— XVII вв. и далее) идея духовного рождения ученика от учителя представлена в индийской литературе весьма широко и разнообразно.
Одно из первых упоминаний о «священном ученичестве» (брахмачарья — это слово означает также «целомудрие») мы встречаем в гимне Атхарваведы 11.5, специально посвященном восхвалению брахмачарина, т. е. ученика.
Акт «рождения» ученика от учителя связывается здесь, как и следовало ожидать, с обрядом упанаяны (инициации, имеющей в большинстве традиционных культур отчетливый характер сакрального рождения, см. [16]): «Учитель, посвящая [его] в ученики, внутри своего чрева творит брахмачарина. Его он носит в животе три ночи. На рождение [брахмачарина] посмотреть собираются [все] боги» (11.5.3).
Далее в тексте гимна это ритуальное рождение эксплицитно связывается с достижением учеником бессмертия: «Брахмачарин, творя молитву и [своей молитвой творя] небесные воды, мир, Владыку тварей, Парамештхина, Вираджа и став зародышем во чреве бессмертия, став Индрой, сокрушил асуров» (11.5.7) 14.
Согласно учению Шатапатха-брахманы, все существа, кроме брахмачарина, подвержены смерти; но в те дни, когда ученик пренебрегает своими обязанностями, он также становится добычей смерти.
Вся жизнь брахмачарина в доме учителя уподобляется долгой саттре (т. е. чрезвычайно длительному жертвоприношению) и, значит, священна и смерти неподвластна (11.3.3.1—6).
Описывая далее церемонию инициации ученика, текст многократно обыгрывает процесс вынашивания младенца в материнской утробе, выражая духовную реальность в чувственных символах: «... раньше, поистине, его (т. е. ученика) обучали этому [тексту] через год, думая: „Дети рождаются, поистине, после вышивания в течение года"... Либо через шесть месяцев, думая: ,,В году шесть сезонов, а дети рождаются, поистине, после вынашивания в течение года"» (далее аналогично: через 24 дня, «ибо год состоит из 24 полумесяцев»... через 12 дней, через 6 дней и т. д.) (11.5.4.6—11).
Вполне однозначно истолковывается также указание брахманы на то, что учитель, принявший к себе в дом брахмачарина, должен был (в течение какого-то промежутка времени, который точно не оговаривается) воздерживаться от полового общения; «ибо, поистине, тот, кто входит в период ученичества, становится плодом в утробе [учителя]» (11.5.4.16) 15.
Процесс духовного рождения понимался, таким образом, как нечто вполне реальное, хотя и не воспринимаемое физическим зрением 16.
III
В текстах смрити (особенно в дхармасутрах и дхармашастрах), а также во всей позднейшей литературе индуизма представление о восприятии от учителя знания как о вторичном рождении становится общепринятым.
Не имея возможности процитировать здесь все соответствующие свидетельства (или хотя бы основные из них), приведем лишь некоторые, наиболее характерные примеры.
Апастамба-дхармасутра
1.1.1.15—17: Ибо он (учитель) заставляет его (ученика) родиться посредством священного знания. Это [второе] рождение — наилучшее. Отец и мать [ученика] порождают лишь его тело.
Гаутама-дхармасутра
1.8—9: Это [посвящение] есть второе рождение. Человек, от которого он (ученик) получает это [второе рождение], называется «ачарья» (учитель).
Васиштха-дхармасутра
2.5: Поистине, мужская сила человека, знающего веду, бывает двух видов: та, которая пребывает выше пупка, и другая, нисходящая, пребывающая ниже. Посредством той, которая выше пупка, рождается его потомство, когда он посвящает брахманов [в ученики], когда он учит их, когда заставляет их совершать жертвоприношения, когда делает их чистыми. Посредством той, которая пребывает ниже пупка, рождаются его телесные дети. Поэтому никогда не следует говорить знатоку шрути, который учит веде: «У тебя нет потомства».
Манусмрити
2.146: Из двух [отцов] —дающего [физическое] рождение и дающего знание веды — почтеннее отец, дающий знание веды; ведь рождение, данное ведой, вечно и после смерти, и в этом мире.
2.147—148: Так как отец и мать порождают [ученика] от взаимной любви, следует считать, что это его рождение произошло [лишь] от чрева. Но рождение, которое ему согласно правилам дает учитель, знающий веду,— настоящее [рождение]; оно свободно от старости и смерти.
2.150: Брахман — творец рождения от веды и наставник [ученика] в его дхарме; согласно дхарме, даже ребенок может быть отцом старика.
2.153: Поистине, несведущий является младенцем, обучающий веде является его отцом; ибо всегда говорили несведущему «дитя», а обучающему веде — «отец».
В эпоху создания обоих эпических сводов, Махабхараты и Рамаяны, соотношение учитель — ученик, оставаясь в рамках концепции духовного рождения, претерпевает некоторые изменения; мы проследим их несколько позже, обратившись непосредственно к Гите.
Тексты пуран являют неоднородную картину.
С одной стороны, мы встречаем здесь более или менее подробные наставления об обязанностях брахмачарина в духе (иногда с текстуальными повторами) 2-й главы Манусмрити; в их число, как правило, входят обязательные предписания о почитании учителя, прямое сопоставление (иногда отождествление) его с матерью или отцом (Курма-пурана 2.12.31—32).
С другой стороны, эти наставления явно отходят на второй план перед фигурой обожествленного учителя в духе Гиты, космического «отца» всех тварей (см. ниже):
И все прочие бесчисленные существа — они тоже образованы из него (Брахмы); ослепленные Моей майей, они не видят во Мне [своего] отца; и в каких бы лонах здесь ни возникали всяческие тела, [мудрые] знают, что Великое Лоно [Брахмы] —это их мать. Я — их отец (Курма-пурана 2. 8. 6— 7; ср. Гита 14.4).
Наконец, приведем несколько отрывков из поэмы «Сарванги» раджастханского мистика Раджаба (XVII в.):
4.11: ...ученик изменяется уже оттого что находится вместе с учителем в его доме.
4.12: ...ум ученика возвышается до небесных переживаний, когда наставление учителя входит в его тело.
4.36: Ум ученика подобен женщине, учитель подобен мужчине; лишь истинный учитель приводит ученика к совершенству, и только истинный мужчина может зачать в женщине потомство (цит. по [14, с. 117—118]).
IV
Приведенные примеры, конечно, не исчерпывают всего многообразия типов древнего и средневекового ученичества в Индии.
Однако они достаточно свидетельствуют о том, что в основе этого многообразия лежал единый образ, единый архетип — учителя-отца, порождающего ученика своим словом. Нетрудно установить источник этих представлений.
В ведийских прозаических текстах мы находим неоднократные упоминания о том, как тот или иной брахман является учителем собственного сына и, таким образом, одновременно его и физическим и духовным отцом17.
Такой тип передачи знания следует, видимо, признать изначальным: это и есть тот самый архетип, по которому строятся многие формы обучения брахмачарина, и прежде всего его жизнь в доме учителя, фактически воспроизводящая ситуацию усыновления (отсюда и перенос на жену учителя некоторых отношений ученика с матерью, на его детей — отношений к собственным братьям и сестрам и т. д.).
Но если факт духовного сыновства ученика бесспорен, то интерпретация этого факта наталкивается на серьезные трудности.
Формула «трансляция культуры — духовное рождение» кажется, по крайней мере, на первый взгляд, настолько резко противопоставленной современным научным воззрениям на передачу и восприятие знания, что европейский ученый, обнаруживая ее в текстах, видит здесь либо своеобразную, весьма детально разработанную метафору, либо религиозный догмат, требующий не объяснения, но веры.
Вот почему, например, Я. Гонда, обсуждая проблему брахманического обучения, вообще не называет духовное рождение в качестве его единственной цели [18, с. 229—283]. Можно, однако, показать, что такого рода оценки несправедливы и что попытка рационального объяснения данного принципа не безнадежна.
Каким же образом учитель «порождает» себя в ученике?
И что требуется от ученика, чтобы адекватно «воспроизвести» в себе личность учителя?
Прежде чем отвечать на эти вопросы, спросим себя: в каком смысле сын (или дочь) воспроизводит родителей физически?
Подробный ответ на этот вопрос далеко не прост и будет, видимо, заключать в себе несколько уровней смысла.
Оставаясь, однако, на самом внешнем, поверхностном уровне, достаточно будет сказать, что ребенок воспроизводит своих физических родителей постольку, поскольку он похож на них чисто внешне, физически.
Воспользовавшись этой аналогией, можно утверждать, что ученик будет духовным воспроизведением (сыном) учителя в том случае, если он будет похож на него какими-то чертами своего духовного облика: привычками, образом мыслей, системой оценок и т. д. Не эту ли психическую общность, «похожесть» имеет в виду многолетнее (от 12 до 48 лет!) пребывание ученика в доме учителя?
Хорошо известен (и неоднократно описан в литературе) факт поразительной духовной похожести супругов, проживающих бок о бок целую жизнь; с тем большим основанием следовало бы ожидать такой духовной ассимиляции от ребенка, подростка, развитие которых очень часто целиком проходит под знаком подражания старшим.
Надо думать, стремление подражать учителю было особенно сильным — из-за того совершенно исключительного престижа, прямо-таки почитания, которым была окружена в древней Индии фигура учителя (подробнее об этом см. ниже).
Разумеется, я не пытаюсь утверждать, будто подобным элементарным, чисто инстинктивным подражанием учителю, подобной внешней похожестью на него проблема духовного сыновства как воспроизведения всей культуры в целом исчерпывается.
Однако, как и в случае физического воспроизведения ребенком родителей, намеренно беря этот поверхностный слой, мы убеждаемся, что по крайней мере одна черта древнеиндийского ученичества (жизнь ученика в доме учителя) может быть удовлетворительно объяснена ссылкой на интересующую нас конечную цель — духовное рождение.
Попытаемся сделать еще один шаг вперед. Предположим, что вся система древнеиндийского ученичества была построена таким образом, чтобы обеспечить максимально глубокий духовный мимесис учителя учеником, их наибольшую внутреннюю близость.
Если рассмотрение конкретных приемов передачи знания покажет, что именно такого рода близость возникала как их неизбежное следствие, то ничто не помешает нам назвать «продукт» такой системы обучения, т. е. хорошо, по всем правилам обученного ученика, «сыном» его учителя.
Каковы были эти приемы и в чем состояло передаваемое знание?
V
В ответ на наш вопрос тексты (прежде всего грихья- и дхар-масутры) сообщают, что передаваемым знанием являлись священные тексты веды, а методом передачи было чтение их по памяти учителем вслух, повторение текстов (с голоса) учеником и последующее заучивание их наизусть.
Первыми обычно заучивались священные возгласы — Ом (и др.), после чего ученик получал от учителя савитри (Ригведа 3.62.10), усвоение которого до такой степени ассоциировалось с началом занятий, что юношу-переростка, пропустившего свое время учебы, тексты именуют «отпавшим от савитри».
Затем следовало изучение остальных гимнов Ригведы (или другой ведийской самхиты), прочих текстов шрути (брахман, араньяк и упанишад), а также соответствующих вспомогательных текстов смрити.
Если теперь попытаемся представить себе реальную функцию всех этих многочисленных текстов (в особенности таких разделов смрити. как шраута- и грихьясутры), то станет ясно, что целью обучения было не механическое заучивание их наизусть, но применение указанных текстов в ведийском ритуале.
Этот вывод становится неизбежным, если вспомнить, что не только сутры, но и брахманы суть не что иное, как ритуальные комментарии к самхитам.
Ученики из варны брахманов получали от учителя, видимо, полное знание торжественного ритуала (зафиксированного в шраутасутрах), тогда как сыновья кшатриев и вайшьев могли ограничиться более простыми формами «домашнего» ритуала (отраженного в текстах грихьясутр), может быть, даже лишь какой-то его частью.
Но как бы то ни было, учитель передавал ученику не просто знание священных текстов, но ритуал, т. е. чрезвычайно сложную, иерархизированную систему сакрального поведения.
Ритуал есть определенная последовательность огромного числа отдельных священнодействий. Для правильного совершения любого из них (т. е. для правильного воспроизведения соответствующего действия учителя) ученик должен был научиться организовывать свое поведение одновременно на трех уровнях:
1) совершенно точно произнести (или спеть) слова гимна или ритуальной формулы (зафиксированные в самхите);
2) одновременно совершить определенное физическое действие (описанное в сутрах, однако без подражания учителю, по-видимому, невоспроизводимое);
3) наконец, одновременно с этими двумя он обязан был воссоздать в уме определенный образ (либо числовое соотношение, либо мифологему в виде эпизода борьбы с асурами, так или иначе связанного с совершаемым в данный момент действием, и т. д.), представленный в тексте брахманы, как правило, в сопровождении формулы «кто так знает»; здесь же сообщался предполагаемый благоприятный результат всего действия в целом, т. е. мотив, ради которого это действие вообще стоило предпринимать18.
Исходя из этих соображений, можно попытаться рассмотреть ритуал как инструмент передачи человеческой деятельности, в широком смысле — человеческой культуры; именно в этом отношении свидетельства ведийских ритуальных текстов представляют особый интерес.
В частности, данные ритуала позволяют увидеть общечеловеческий смысл принципа «обучение — духовное рождение», поскольку в своей глубочайшей основе ритуал есть не что иное, как система приемов для трансляции личности.
В современной психологии можно обнаружить тенденцию связывать формирование и развитие личности с развитием ее деятельности, причем, что особенно интересно, в ряде работ эти две категории практически отождествляются.
Так, советский психолог С. Л. Рубинштейн пишет: «В деятельности личность и формируется и проявляется. Будучи в качестве субъекта деятельности ее предпосылкой, она (личность.— В. С.) является вместе с тем и ее результатом... Единство деятельности... в единстве ее исходных мотивов и конечных целей, которые являются мотивами и целями личности» [5, с. 619].
Отсюда следует сделать совсем небольшой шаг, чтобы прийти к равенству «личность — единство деятельности». Этот шаг практически уже совершил А. Н. Леонтьев. В своей работе под характерным названием «Деятельность. Сознание. Личность» он утверждает:
«Реальное основание личности человека лежит не в заложенных в нем генетических программах, не в глубине его задатков и влечений и даже не в приобретенных им навыках, знаниях и умениях... а в той системе деятельностей, которые реализуются этими знаниями и умениями» [3, с. 185—186].
Выражение «основание личности» (а не просто «личность»), употребленное здесь автором, не должно вводить читателя в заблуждение: речь идет, конечно, о личности, но лишь постольку, поскольку последняя вообще описуема.
Как и всякий осторожный ученый, А. Н. Леонтьев полагает, что его схемы и формулировки не до конца покрывают описываемую реальность. Каким же образом, с его точки зрения, устроена личность?
«Структура личности представляет собой относительно устойчивую конфигурацию главных, внутри себя иерархизированных мотивационных линий» [3, с. 221], а мотив, в свою очередь, это «предмет (вещественный или идеальный), который побуждает и направляет на себя деятельность» [3, с. 102].
Сопоставляя эти высказывания, нетрудно усмотреть, что личность — через посредство мотивационных линий — определяется своей деятельностью19.
Опираясь на эти соображения, мы можем теперь сказать, что для воспроизводства личности, скажем, такого-то учителя (либо вообще любого человека) необходимо и достаточно передать его ученику (в общем случае: некоторому другому человеку) систему характерных для него деятельностей, включая их мотивацию.
Можно либо настаивать, вслед за А. Н. Леонтьевым (см., например, [3, с. 221—222]), на множественном числе слова «деятельность» в такого рода формулировках, либо нет.
В последнем случае однозначным соответствием будут связаны просто личность и ее деятельность.
Рассматривая приведенную выше структуру ритуальной деятельности, можно убедиться в том, что брахманический ритуал, заставляя ученика воспроизводить одновременно речевые, физические и ментальные компоненты деятельности учителя, обеспечивал воспроизводство его (т. е. учителя) личности в ученике с поистине изумительной полнотой, ибо эти три параметра (слово, физическое действие, мысль), к которым следует присоединить еще мотив (ср. сказанное выше по поводу формулы «кто так знает»), описывают любое человеческое действие — и их совокупность, деятельность — полно и всесторонне.
А личность, как мы только что убедились, это и есть деятельность.
VI
Таким образом, ведийская ритуальная культура предстает перед нами как тщательно продуманная и отрегулированная система приемов, позволяющих передавать от поколения к поколению (по традиции) личность учителя.
Не случайно поэтому ведийские тексты донесли до нас десятки имен учителей, обладавших достаточной творческой мощью, чтобы духовно оплодотворить многие десятки поколений учеников (см., например, генеалогии учителей, приводимые в Брихадараньяка-упанишаде 2.6.1—3; 6.5.1-4).
Теперь спросим себя: является ли эта черта уникальной особенностью одной только ведийской ритуальной культуры?
Или есть основания полагать, что все традиционные культуры устроены по тому же принципу?
А быть может, эта особенность присуща вообще человеческой культуре, как таковой?
Анализируемый ниже пример (см. примеч. 21) свидетельствует, кажется, в пользу последнего предположения. Однако, прежде чем переходить к рассмотрению этого примера, обратим внимание на следующее замечательное обстоятельство.
В текстах ведийского ритуала три описанных выше компонента правильного ритуального действия в большинстве случаев либо имеют одинаковую структуру, либо тем или иным способом (неважно каким — формальным или содержательным) повторяют, дублируют друг друга. Например, если в ритуальном возгласе попадаются слова «сок», «сила», то оказывается, что одновременно с их произнесением следует срезать с определенного дерева непременно сочную (= «сильную») ветку и при этом воспроизвести в уме мифологему, говорящую о силе богов (об их превосходстве в силе над асурами).
Причину этих соответствий следует, видимо, искать в естественном стремлении каждой здоровой, цельной человеческой личности к единству своих проявлений20.
Выражая себя в слове, в движении, в ментальном образе, такая личность выражает в конце концов нечто единое — свою внутреннюю суть, самое себя.
Из этого следуют два вывода:
1) воспринимая проявления другой личности (личности учителя) даже в неполной, редуцированной форме (например, не все три описанных выше компонента, а только слово и образ, либо слово и физическое движение, либо только слово), ученик может восстановить недостающее слагаемое (или даже два) за счет особо интенсивного, глубокого восприятия редуцированного целого.
Деятельность ученика в таких ситуациях напоминает биологическую активность некоторых простейших организмов, способных из одного отрезанного члена регенерировать весь свой организм;
2) напротив, даже имея перед собой полную парадигму проявлений личности учителя, но усваивая ее недостаточно глубоко, ученик не может синтезировать искомое целым; в результате передачи личности учителя (=трансляции культуры) не происходит.
Эта последняя ситуация, видимо, является преобладающей во времена распада традиционных культур — в те эпохи, когда они, как правило, усиленно насаждаются и тем не менее неотвратимо гибнут.
Условия возникновения подобных ситуаций чрезвычайно сложны, а их исследование составляет специальную задачу.
Что же касается регенерации личности в случае восприятия редуцированного целого, то она может происходить даже в рамках нетрадиционных культур; так, можно привести достаточно примеров писателей, поэтов, художников и т. д., вполне сознательно относившихся к тем или иным мастерам прошлого как к своим «духовным отцам».
В терминах обсуждаемой концепции такого рода высказывания теряют свою метафоричность и обретают вполне конкретный смысл21.
VII
Такие примеры, конечно, весьма далеки от древнеиндийского ритуализма.
Однако если обращаться не к содержанию, а к форме трансляции соответствующих культур, то можно обнаружить некоторые значимые соответствия.
И прежде всего общим является осознанное стремление человека не допустить бесследного исчезновения своей личности, передать ее потомкам при помощи средств, выработанных культурой.
Надо сказать, что средство, применяемое Пушкиным (см. примеч. 21) (ритмически организованная речь, поэзия, кстати говоря, один из древнейших, архаичнейших инструментов трансляции культуры), не так уж далеко от тех (редуцированных) форм ведийского ритуала, а также ритуализованных форм позднейшей индийской культуры (о которых ниже), где звучащее слово выступает главным, а то и единственным активным началом.
В частности, я не вижу психологической разницы между состоянием «одержимости» каким-нибудь стихотворением или даже строкой любимого поэта — состоянием, хорошо известным каждому любителю поэзии,— и тем упражнением в постоянной рецитации текста, которое предписывается в древней Индии адепту, изучающему этот текст.
С точки зрения развития форм редуцированного ритуала в послеведийской культуре Индии можно выделить два направления, истоки которых восходят к эпохе брахманизма:
1) культура йогического типа, построившая систему трансляции на гипертрофии ментального компонента
(т. е. брахманических наставлений, обычно сопровождавшихся формулой «кто так знает») старой ритуальной схемы; если два остальных уровня (словесный и физический) при этом вообще сохраняются, то либо в весьма упрощенном, либо в трансформированном виде. Редукция физического действия очень часто приводит к формам интериоризованного, символического ритуала, на простейшей физической основе — ср. такие, например, явления, как «прана-агнихотра» [12, с. 213 и сл.];
2) культура, условно говоря, «словесного» типа, транслирующая личность учителя путем постоянного проговаривания, рецитации определенного числа текстов (это могут быть либо тексты большого объема, как, например, эпические сказания и пураны; либо совсем маленькие, вплоть до кратких формул, тексты, непрерывно повторяемые вслух и про себя).
Здесь также сохраняются (могут сохраняться) элементы двух остальных уровней ритуального акта, однако в еще более упрощенной, так сказать, минимальной форме:
принятие определенной позы во время чтения текста, совершение несложных очистительных упражнений и т. д.
Видимо, никакая схема не может претендовать на абсолютность; не претендует на нее и эта простая дихотомия. Все же она представляется полезной, поскольку в ее основе лежит старое, засвидетельствованное еще упанишадами различие в образе жизни носителей ведийской культуры, иначе говоря, различие типов личности, передаваемой с помощью текстов.
Согласно Брихадараньяка-упанишаде 6.2.16 (= Чхандогья-упанишада 5.10), аскет, предающийся своим медитациям «в лесу», и домохозяин, живущий «в деревне» и пекущийся о спасении души, совершая «домашние» обряды, идут принципиально разными путями: первый — «путем богов», второй— «путем предков».
В нашей схеме культуре первого типа (йогического) будет соответствовать образ жизни аскета, второго (словесного) — образ жизни домохозяина, пожелавшего изменить свой личностный статус и перейти с пути предков на путь богов, от сансары к мокше.
Оба эти пути, однако, суть не что иное, как редуцированные формы брахманического ритуала.
VIII
Рассматривая на основе этих соображений историю формирования текста Гиты, мы замечаем в ней признаки культур обоих типов — и это хорошо согласуется с неоднократно отмечавшимся «синтетическим» характером нашего текста.
Ибо, с одной стороны, как мы видели, первоначальный зародыш текста Гиты восходит к эпохе упанишад (Чхандогья 3.17), где мы встречаем (в связи с именем «Кришны, сына Деваки») один из типичных образцов редукции полной схемы ритуала путем его символизации; из текста следует, что эта символизация совершается по принципу «кто так знает».
Перед нами, стало быть, пример ментализации ритуала, который следует отнести к культуре первого (йогического) типа.
Разумеется, это еще не йога в классическом смысле слова, даже не йога таких текстов, как Шветашватара-или Майтри-упанишады; однако в самой Гите (в ее окончательной, развитой форме) мы находим ряд наставлений чисто «профессиональной», аскетической йоги (см., например, Гита 6.10— 14), что, по-видимому, подтверждает наличие данной линии в истории трансляции текста.
Однако, с другой стороны, представляется вполне очевидным, что подавляющее большинство стихов Гиты принадлежит к иному, «словесному» типу культуры.
Об этом говорят и сама форма стихов поэмы — емких, «хорошо сказанных» афоризмов, чрезвычайно удобных для заучивания и рецитации, и включение поэмы в число «философских эпизодов» Махабхараты (ср. сказанное выше о роли эпоса в культуре «словесного» типа), и, наконец, вполне эксплицитное указание одного из заключительных стихов памятника (18.70), предписывающего заучивать наизусть и непрерывно повторять наставления Кришны; такое понимание данного стиха подкрепляется единодушным мнением практически всех комментаторов, давших ему значимое толкование.
В этой связи можно предположить, что система передачи данного текста претерпела определенные изменения: вначале, в эпоху своего складывания, Гита передавалась но типу текстов рахасья (=араньяк и упанишад) в лесу учителем-аскетом ученику-аскету (либо брахмачарину); затем, скорее всего в эпоху выработки основного учения Гиты, в III—II вв. до н. э., текст выходит «в народ», на путь более или менее широкой проповеди, и это приводит не только к определенному изменению его формы (ср. выше об афористичности стихов поэмы), но, что не менее важно, к весьма глубоким сдвигам в его содержании.
Эти изменения группировались вокруг главной проблемы традиционной культуры — проблемы трансляции личности учителя.
Дело в том, что в самом существовании традиционной культуры заложено некое противоречие, состоящее в несоответствии передаваемого содержания и используемой ради этого формы.
Стремясь порождать в своих адептах бессмертную личность (т. е. передавать «по традиции» некоторое вневременное, бессмертное содержание), традиционная культура существует все-таки во времени и, как всякое временное явление, неизбежно проходит стадии возникновения, развития, расцвета, а затем упадка, распада и гибели.
Великие тексты и идеи, конечно, не устаревают; но устаревает, костенеет их понимание, применение, все те бесчисленные формы повседневной культуры, которые раньше обеспечивали генерацию нужного типа личности, а теперь, начиная с какого-то времени, уже не справляются со своей задачей.
Это противоречие с поразительной силой осознано и выражено в Гите.
В начале главы 4 Кришна (но здесь уже не скромный «сын Деваки», как в Чхандогья-упанишаде, а великий учитель, более того, Благой Господь; причины этой эволюции для нас вскоре станут ясны), обозревая содержание двух предыдущих глав, говорит своему ученику Арджуне:
Эту непреходящую йогу
Я вначале сказал Вивасвату,
Вивасват сообщил ее Ману,
мудрый Ману поведал Икшваку (1).
Друг от друга перенимая,
ее знали цари-провидцы;
постепенно за долгое время
эта йога пришла в упадок (2).
Эту древнюю йогу сегодня
я тебе возвестил, Арджуна.
Лишь тебе доверил, о бхакт мой,
величайшую эту тайну (3).
Арджуне неясна мысль, заключенная в этих словах, и он просит учителя объяснить, что значит «вначале сказал Вивасвату», если, как это всем хорошо известно, Вивасват жил гораздо раньше Кришны. В ответ Бхагаван развивает знаменитое учение о своих последовательных «нисхождениях» в мир:
Всякий раз, когда в этом мире
наступает дхармы упадок,
когда нагло порок торжествует,
Я себя порождаю, Арджуна (7)
и т. д.
Нас, однако, в отличие от Арджуны сейчас интересует несколько иное, а именно:
в силу каких причин эта вечная «йога» (т. е. «знание», «мудрость», а также, в ряде контекстов Гиты, «аскетическая тренировка», «дисциплина духа») «постепенно пришла в упадок»?
Увы, из самих же слов Кришны с несомненностью следует, что причиной упадка было «восприятие по традиции» (в нашем переводе: «друг от друга воспринимая») в течение «долгого времени». Не может быть сомнений в том, что под словом «учение» (йога) Кришна имеет в виду древнюю мудрость упанишад: об этом достаточно свидетельствуют и генетические и содержательные связи нашего текста.
Но из этого же следует, что то самое многолетнее пребывание в доме учителя, «вживание» в его личность, которое составляет самую основу воспроизводства брахманической культуры как культуры личности учителя, является вместе с тем и причиной ее гибели.
Видимо, каждый последующий гуру, принимая от своего наставника то «вечное» содержание его личности, которое когда-то было положено в основу традиции ее установителем, «растворяет» его в своей личности и передает ученику уже не совсем то, что воспринял.
Ясно, что за многие сотни лет может накопиться такая масса этих «небольших изменений», что от первоначального содержания традиции почти ничего не остается, и она, по словам Кришны, «приходит в упадок».
Любая великая духовная традиция — это искусно построенная машина для борьбы со временем; но, несмотря ни на какие ухищрения, время в конце концов все-таки ломает ее.
Подобного рода тревожные соображения, видимо, не раз приходили в голову учителям традиционных культур, и в том числе, конечно, культуры брахманизма.
И они пытались найти выход из тупика.
Одно из возможных решений, которое мгновенно подсказывает здравый смысл, состоит в том, чтобы всеми мерами усилить надежность процесса трансляции культуры — тщательно оградить ее от всех мыслимых искажений, перетолкований и особенно нововведений (отсюда, кстати, берет свое начало столь хорошо известный консерватизм всех без исключения традиционных культур и обществ).
К сожалению, на деле оказывается, что применение такого рода средств, какими бы локальными успехами оно ни сопровождалось (известно, например, каких поразительных результатов добился ведийский ритуализм в деле безошибочного воспроизведения по памяти священного текста: Ригведа и посей день передается устно без сколько-нибудь заметных ошибок), все же остается паллиативом: оно не в силах спасти ритуальную (и вообще традиционную) культуру от внутреннего омертвения.
Другое решение — и это и есть то самое решение, которое предлагает Гита,— заключается в том, чтобы обеспечить носителям данной культуры возможность обращаться непосредственно к первоучителю данной традиции (в Гите таким первоучителем является Кришна) и получать духовное рождение прямо от него, через головы всех промежуточных учителей.
Здесь может возникнуть законный вопрос: достижимо ли это?
А если да, то каким образом?
IX
Рассмотрим прежде всего те (довольно многочисленные) контексты Гиты, в которых Бхагаван-Кришна призывает своего ученика (т. е. и Арджуну, и вообще любого ученика, живущего где и когда угодно) «прийти к Нему», «достичь Его», «отождествиться с Ним» и т. д.:
6.15: ...йогин достигает умиротворения, пребывающего во Мне.
6.30: Кто видит Меня повсюду, кто видит все во Мне, тот для Меня не потеряй.
7.14: Те, кто припадают ко Мне, преодолевают [завесу] майи.
7.15: [Напротив], люди недобрые, низкие, ослепленные [своими грехами], ко Мне не припадают.
7.23: Мои бхакты идут ко Мне.
8.15: Придя ко Мне, великий духом не обретает нового рождения.
18.55: Меня познав истинным знанием, он затем в Меня входит.
Во всех такого рода наставлениях можно видеть символический эквивалент (замену) физического прихода брахмачарина старых времен к физически доступному учителю.
Но каким же образом возможен этот символический «приход» к Бхагавану?
Видимо, ответ — на уровне учения Гиты — будет заключаться в том, чтобы максимально интенсивно отождествиться с образом идеального ученика — Арджуны.
Читая, перечитывая, многократно повторяя вслух, мысленно представляя потрясающую сцену встречи Арджуны на поле битвы с многочисленными родичами (1.26—28), переживая вместе с ним чувство нерешительности, ужаса и отчаяния (1.29—33; 2.6—8), приводящее к отказу участвовать в братоубийственной войне (1.35—37; 2.4), сопереживая затем его пламенное обращение к Бхагавану-Кришне за истинным знанием, которое одно только может вывести его, Арджуну (читай: любого ученика), из подобного непреодолимого тупика (соответственно из какого угодно жизненного кризиса), ученик, приступивший таким образом к изучению Гиты, должен был в конце концов почувствовать, что его обращение за наставлением к Гите вполне эквивалентно обращению к реальному, физически присутствующему учителю за традиционным (т. е. личностным) знанием.
При этом постоянное пребывание памятью в тексте поэмы (ср. сказанное выше о непрерывной рецитации Гиты, предписанной в 18.70) аналогично постоянному пребыванию в доме учителя и т. д.
Если к тому же ученик сможет выйти за рамки одной лишь Гиты и обратиться к более крупным текстам кришнаитского цикла, которые, нисколько не противореча Гите, ее существенно дополняют, то перед ним откроются поистине неограниченные возможности пребывания рядом с Кришной: такие памятники, как Хариванша, Вишну-пурана и особенно Бхагавата-пурана, содержат обилие житийного (относящегося к Кришне) материала, на усвоение которого хорошо подготовленный адепт может без остатка потратить всю свою жизнь.
Так обстоит дело с «приходом к учителю».
Этим, однако, далеко не исчерпываются возможности непосредственного (назовем его так, памятуя, что здесь и в дальнейшем речь идет о сугубо ментальных, символических действиях) обращения ученика к личности первоучителя данной традиции.
Следующий этап — благоговейное почитание учителя, или, как его называет Гита, «любовь-соучастие» (bhakti).
Здесь было бы недостаточно просто отметить, что наставления, требующие от ученика бхакти к Бхагавану, восхваляющие идеального ученика-бхакта и т. д., практически непосредственно вытекают из наставлений типа «приди ко Мне», «отождествись со Мной» и пр. (см. выше), иногда с ними перекрещиваясь и совпадая.
Учение о благоговейной любви-соучастии есть нечто большее: оно составляет самую сердцевину учения поэмы, и именно с него начинается многовековая «эпоха бхакти» в индийской литературе.
Для нас, однако, особенно важно отметить, что подобное отношение к первоучителю, к основателю традиции есть не что иное, как развитие (или, если угодно, символическое воспроизведение) хорошо известного еще в эпоху дхармасутр принципа «почитания учителя», преследовавшего, как и здесь, в Гите, вполне определенную функциональную цель — стать как можно ближе к учителю, всецело сосредоточить на нем внимание, воспроизвести его личность в себе.
В ведийскую эпоху существовало почитание учителя в двух формах.
С одной стороны, тексты дхармасутр полны бесчисленных предписаний о том, как ученик должен приветствовать учителя (по большей части обнимая ему ноги), как он должен сидеть в его присутствии (непременно ниже учителя; если же учитель встает, ученик тоже обязан встать), как он должен спать в его доме (ложиться позже учителя и вставать раньше его) и т. д.
С другой стороны — и эти места представляют для нас гораздо больший интерес — тексты предписывают ученику почитать учителя, как некое божество.
Шатапатха-брахмана:
2.2.2.6: Существует, поистине, два вида богов; ибо ведь те, которые боги, они суть боги; также брахманы, изучившие священное знание (веду) и обучающие ему, суть боги в человеческом облике.
Такого рода пассажи иногда воспринимались современными учеными как свидетельство безмерных притязаний варны брахманов на особое положение в обществе, на господство и т. д.
Более правильной представляется точка зрения Я. Гонды, который рассматривает их в одном контексте с почитанием учителя. Тот же автор, кстати, вспоминает в этой связи примеры обожествления «мудрых мужей» в древней Греции (Эмпедокл и др.) [18, с. 230].
Приведем еще два индийских текста.
Шветашватара-упанишада:
6.23: Кто полон высочайшего почитания божества и [почитает] учителя, словно божество, для того, великого духом, все сказанное сияет, словно свет.
(здесь слово «почитание» соответствует санскр. bhakti).
Апастамба-дхармасутра: 1.2.6.13:
Пусть он почитает учителя, словно бога.
К обожествлению учителя сводится также смысл известного эпизода из Махабхараты (1.132), повествующего о том, как некто Экалавья, которого великий лучник Дроначарья отказался взять в ученики, стал почитать образ (т. е. изображение, портрет) Дроны и этим почитанием достиг высокого мастерства в стрельбе из лука.
Такое почитание учителя, переходящее в обожествление, находит в Гите чрезвычайно яркое продолжение.
Начиная с главы 4, говорящей о «божественном рождении» Кришны, вся поэма насыщена идеями бхакти. Эта линия достигает кульминации в главе 11, где изумленный Арджуна созерцает весь мир в теле своего учителя.
Связь Гиты со старой ведийской традицией сакрального ученичества также и в этом отношении бесспорна.
Какую цель, однако, преследует почитание учителя и в том и в другом случае (т. е. и в реальном ученичестве дхармасутр, и в символическом ученичестве Гиты)?
Думается, ответ на этот вопрос содержится в окончании только что процитированной сутры Апастамбы 1.2.6.13: «...пусть он не болтает пустяков, [пусть будет] внимателен и напряженно слушает его (учителя) слова».
Из сопоставления обеих частей данного отрывка, видимо, следует, что «почитать учителя, словно бога», и «быть внимательным, напряженно слушать его слова», по сути дела, одно и то же. Значит, функция обожествления та же, что и у (частично отмеченных выше) «знаков внимания» к учителю.
Обожествляемый учитель (присутствующий физически либо символически как Кришна) есть объект постоянного напряженного внимания со стороны ученика. Благодаря этому вниманию ученик, уже живущий (либо реально, либо символически) в доме учителя, становится к нему внутренне еще ближе.
Благоговейное внимание (это и есть бхакти) — не содержание взаимодействия учителя и ученика, а только форма этого взаимодействия.
Содержание же задается деятельностью, ритуальным поведением учителя (см. выше). Цель бхакти — сделать ученика максимально восприимчивым к этой деятельности.
X
В чем же состоит эта «ритуальная деятельность» Бхагавана и каким образом ученик (Арджуна и любой другой) ее может воспринять и, главное, воспроизвести?
На первый взгляд такой вопрос граничит с абсурдом. Понятно, что значит воспроизводить деятельность видимого, реально присутствующего учителя.
Но что такое «воспроизводить деятельность» невидимого Бхагавана, к тому же отождествляемого с творцом Вселенной, с космическим Абсолютом и т. д. (соответствующих высказываний в Гите сколько угодно)?
Ответом на эти вопросы является учение Гиты о «незаинтересованном действии» — это второй по значимости (по мнению некоторых исследователей, например Тилака,— первый) идейный центр поэмы.
Арджуна буквально на каждом шагу призывается «совершать действия без мысли о плоде», «отбросить привязанность к плоду», «видеть свою цель в действии, но не в плоде» и т. д. Почему он должен действовать именно так, а не иначе? Потому, что так действует в мире Бхагаван-Кришна. Его божественная деятельность для смертных, конечно, абсолютно непроницаема и недоступна (Кришна несколько раз пользуется для характеристики этой деятельности словом «майя», т. е. «таинственная потусторонняя сила, магия», иногда даже «космическая иллюзия, мираж»).
Однако время от времени, как мы уже знаем, Бхагаван воплощается на земле в человеческом теле, например в виде Кришны, царя Ядавов, либо Рамы (ко времени создания основного учения Гиты доктрина животных воплощений Вишну, видимо, еще не сформировалась в окончательном виде). Его побуждает к этому «упадок дхармы» (см. шлоку 4.7, процитированную выше):
Появляюсь Я в каждой юге,
чтоб восставить погибшую дхарму,
чтобы вновь заступиться за добрых,
чтобы вновь покарать злодеев (4.8).
Кто так знает истину эту
Моих дивных рождений и действий,
тот, рождений кольцо разрывая,
после смерти Меня достигнет (4.9).
Для чего здесь, спрашивается, сказано о наказании злодеев?
Для того, чтобы Арджуна, подражая Бхагавану, не ленился убивать злодеев, т. е. Кауравов. Это с полной ясностью следует из шлоки 11.34:
Дрону, и Бхишму, и Карну, сын Притхи,
и Джаядратху — бойцов превосходных —
ты не колеблясь убей, Мной убитых!
С ними сразись! Ты их всех одолеешь.
Однако такое внешнее подражание действиям Бхагавана еще не означает воспроизведения той характерной для него деятельности, которая, как мы знаем, и есть его личность.
Здесь недостает мотивационной структуры деятельности, которая составляет ее (деятельности) глубинное ядро.
Какими же мотивами вдохновляется в своем поведении Кришна-Бхагаван?
Если говорить о видимых, осязаемых результатах, то их нет:
Меня действия не пятнают,
ведь плодов я от них не жажду:
кто таким Меня видит, Партха,
тот цепями действий не скован (4.14).
Можно понять, почему Кришна не жаждет никаких плодов, никакой выгоды от своих действий: что за польза может привлечь того, кто лишь с виду вождь небольшого племени Ядавов, приятель Арджуны по детским играм, а на деле — всемогущий Господь, владыка мира?
Бхагаван потому и действует абсолютно бескорыстно, что никакой «корысти» в этом мире у него быть не может.
Он просто совершает действия, соответствующие его видимому положению в человеческом обществе: варне и периоду жизни (такого рода обязанности человека технически называются варна-ашрама-дхарма).
Именно так должен действовать и Арджуна — хладнокровно исполнять свой варновый долг, не стремясь ни к какой выгоде от своих действий, не ожидая никакого «плода». Воспроизводя и внешнюю канву, и внутренний мотив (т. е. отсутствие каких-либо мотивов) деятельности Бхагавана, Арджуна сможет изнутри уподобиться ему, отождествиться с ним, т. е., в терминах брахманических текстов, «родиться» от него.
Нетрудно убедиться, что, подражая таким образом деятельности своего учителя, Арджуна в конце концов станет совершать каждое свое действие по схеме «правильного» ритуального акта.
В самом деле, выполняя то или иное действие, вытекающее из его варновых обязанностей (физический компонент), Арджуна визуализирует образ Бхагавана, совершающего именно это действие (ментальный компонент); одновременно он вспоминает подходящую случаю шлоку Гиты, все равно какую (словесный компонент) : вспоминается она с необычайной легкостью, так сказать, сама собой, поскольку Арджуна ведь постоянно рецитирует стихи поэмы, как это ему предписано (18.70), в результате чего они не выходят из его памяти (и с языка); ритуализация его поведения осуществляется, таким образом, чрезвычайно легко, автоматически — если только Арджуна (т. е., в сущности, любой ученик на его месте) стремится подражать действиям Бхагавана и достаточно долго рецитирует Гиту.
Кстати, формула «кто так знает», вводящая ментальный компонент в брахманическом ритуале, встречается (иногда в слегка измененной форме) в Гите неоднократно; в цитированных выше примерах она встречается дважды (см. 4.8; 4.14).
Таким образом, содержание Бхагавадгиты (представленное нами здесь, разумеется, лишь в его наиболее существенных чертах) может быть корректно описано в терминах трансляции Культуры как воспроизведение личности учителя.
Собственно говоря, именно эта «сверхзадача» — духовное рождение учителя в ученике — должна рассматриваться как подлинное «содержание» традиционной культуры (также и в той своеобразной, «свернутой», символизированной традиции, которую реализуют наставления Кришны в Гите); по отношению к нему всякое конкретное содержание данного текста является лишь формой, инструментом, обеспечивающим главное — генерацию в ученике бессмертной личности учителя.
XI
Основным результатом проделанной работы следует считать установление двух типов традиционных культур:
один из них (представленный в Индии культурой брахманизма) развертывается, так сказать, по полной парадигме, другой (представленный Гитой и, надо думать, вообще всей позднейшей культурой индуизма) — по сокращенной.
Следует иметь в виду, что обе эти традиции сосуществуют в Индии до сих пор, иногда обособляясь, но по большей части пересекаясь, влияя друг на друга, образуя бесчисленное множество промежуточных (в большей или меньшей степени внешне ритуализованных) форм.
При этом, однако, не представляет труда отличить эти разновидности традиционной (в только что указанном широком смысле) культуры от весьма распространенных, особенно в последнее время, имитаций ее, обозначаемых термином «традиционализм».
Человек традиционной культуры, обладая совершенно иным (по сравнению с традиционалистом) типом сознания, довольно легко различим и чисто внешне: он будет, во-первых, соблюдать свою дхарму (притом бескорыстно, если только он верит в учителя и стремится ему подражать) и, во-вторых, рецитировать тексты.
Для минимального воспроизводства традиции этого достаточно.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Можно с уверенностью говорить о существовании по крайней мере четырех рецензий Бхагавадгиты: это помимо текста в 700 шлок, получившего в «поведении название «вульгата», так называемая кашмирская рецензия, опубликованная лишь в 30-е годы XX в., затем не дошедшая до нас рецензия в 745 шлок (о ней упоминает Махабхарата 6.43) и, наконец, тот вариант поэмы, который лег в основу ее древнеяванского перевода-пересказа. Подробнее о соотношении всех четырех рецензий в связи с проблемой датировки цоэмы см. мою статью [7, с. 93—95], а также [6, с. 11—18].
2 Одно время существовали сомнения в тождестве Шанкары, автора Гита-бхашьи, и Шанкары, знаменитого основателя школы адвайта-веданта, жившего в начале IX в. или, возможно, несколько ранее. Однако работами П. Хакера и его школы подлинность (в указанном смысле) комментария на Гиту была доказана
(см. [20, с. 230, 241], а также цитированную в этом издании литературу).
3 Эта датировка принадлежит У. Хиллу (см. [22, введение]). Для понимания особенностей процесса складывания текста Гиты необходимо иметь в виду, что поэма была предназначена для заучивания наизусть в последующей рецитации. В результате этого, оказавшись на памяти и, что не менее существенно, «на языке» значительного числа своих адептов, Гита попала в русло так называемой «текучей массы устной традиции» (выражение Л. Стернбаха, см. [28, с. 44—45, 47, 50]) — довольно обширного корпуса текстов в основном дидактического содержания, пополнявшегося за счет стихов из упанишад, эпоса, дхармашастр и других смрити, из философских сутр и т. д. В таком «текучем» состоянии Гита существовала, видимо, в течение нескольких веков.
4 См. полезный перечень такого рода соответствий, опубликованный Дж. Хаасом [19].
5 Следующий текст Чхандогья-упанишады (3.17.1—6) можно рассматривать как самый ранний зародыш будущего учения поэмы:
1. Когда он голодает, когда испытывает жажду, когда воздерживается от удовольствий — это его обряд
посвящения (дикша).
2. Когда он ест, когда пьет, когда предается удовольствиям — это его обряд упасад.
3. Когда он смеется, когда пирует, когда наслаждается любовью — это его пение и рецитация гимнов.
4. Подвижничество, подаяние, искренность, ненанесение вреда живому — это его дары [жрецам].
5. Поэтому, когда говорят: «Она рожает», «Она родила» — это его новое рождение; его смерть —
заключительное омовение.
6. Это, поистине, сказав Кришне, сыну Деваки, молвил Гхора Ангираса: «[Кто так знает], тот
освободился от жажды желаний. В час кончины пусть он к таким трем [мантрам] прибегнет: „Ты еси неразрушимое"; „Ты еси неколебимое"; „Ты еси чистое жизненное дыхание"».
Анализ этого текста (в связи с Гитой) см. в моей работе [6].
6 Теоретически члены трех высших варн обладали одинаковыми возможностями получения священного знания. Всем им предписывалось пребывание в доме учителя. Однако время от времени в текстах встречаются указания на существование других типов обучения, например специальных школ для царских сыновей (т. е. кшатриев), которые они могли посещать, живя в родительском доме (см. [24, т. 2, с. 286, 296]). Кроме того, всегда существовали учителя-специалисты, обучавшие юношей, например, стрельбе из лука,
колесничному делу и т. д. Таким учителем был знаменитый лучник Дрона, учивший Кауравов и Пандавов, героев Махабхараты.
7 Относительно женщин этот запрет не был абсолютным: в ряде случаев они допускались к инициации с последующим изучением веды (см. [24, т. 2, с. 293—294]). Однако такого рода практику следует считать, конечно, исключением ввиду эксплицитного указания Ману: «Брачный обряд для женщин — это их ведийский ритуал; служение мужу — [вместо] жизни в доме учителя; домашнее хозяйство — [вместо] поддержания священного огня» (2.67).
8 Брахман, кшатрий или вайшья, не прошедшие посвящения соответственно до исполнения 16, 22 и 24 лет (от зачатия), считались «отпавшими от савитри» и к изучению веды не допускались.
9 Столь длительные сроки обучения диктовались, с одной стороны, огромной массой ведийских текстов, подлежавших заучиванию, с другой — стремлением добиться полного духовного уподобления ученика учителю. Не следует забывать, что первоначально учителем мальчика был его отец, с которым он не расставался, конечно, всю жизнь [24, т. 2, с. 321—322].
10 Здесь перечислены лишь главные обязанности брахмачарина. Подробнее см. [24, т. 2, с. 304—349].
11 Смысл этой последовательности в том, что юноша, не прошедший обряд упанаяна («посвящение») и не изучавший веду, не имел права совершать брачный обряд (т. е. брать жену «правильно», согласно предписаниям шастр).
12 Юридическое родство между учителем и учеником особенно ясно выступает из перечисления порядка наследования ими имущества друг друга (в случае смерти) — см. [18, с. 231]. Ряд запретов,
регулирующих поведение ученика (невозможность женитьбы на дочери учителя, особая тяжесть преступления, состоящего в осквернении ложа гуру, и т. д.), очевидно, исходят из представлений об инцесте.
13Подробнее см. соответствующие разделы дхармасутр, а также фундаментальное исследование П. В. Кане [24, т. 2, с. 268—415] и цитированную там литературу [24, т. 2, с. 268—415], см. также полезную статью Я. Гонды [18, с. 229—314].
14 Как в данном тексте Атхарваведы, духовное рождение часто связывается с идеей бессмертия. Типологически тождественными следует считать также те системы, в которых учитель своим наставлением «спасает» (в той или иной форме) ученика, даже если это спасение мыслится (как, например, в буддизме) в совершенно иных терминах, чем бессмертие. Ясно, что когда учитель (как, скажем, в Гите) божествен, то «воспроизведение его личности» приводит к бессмертию, так сказать, автоматически.
15 Подобного рода наставления (ср. процитированные ниже в тексте свидетельства Васиштхи о двух видах «мужской силы» в человеке) заставляют предположить, что в древности на процесс «духовного воспроизводства» учителя в ученике смотрели как на нечто вполне реальное — не менее, в частности, реальное, чем обычное физическое рождение. Допустимо думать, что все такого рода воззрения основаны на древнейших магических представлениях о передаче некой «силы» от человека к человеку, от человека к животному (и обратно), от предмета к человеку и т. д. (см. [9, с. 20 и сл., 42—47, 49—60]).
Индийские тексты смрити сохранили описание любопытного церемониала приветствия учителя учеником, которое, на наш взгляд, не может быть истолковано иначе, как конкретный прием «передачи силы» от одного к другому: «Перед началом [чтения] веды и по окончании всегда должны быть обнимаемы ноги гуру...Обнимание [ног] гуру должно быть произведено скрещенными руками — левой должна быть тронута левая [нога], правой же — правая» (Many 2.71—72; см. также дхармасутры Апастамбы 1.2.5.10—23; Баудхаяны 1.3.28; Гаутамы 1.46—47; 52—53; последний текст при этом добавляет, что [ученику] «следует сосредоточить взор и ум на учителе»).
Эксплицитные указания текстов «скрещенными руками» следует читать в свете предлагаемого толкования: хорошо известно, что в индийской аскетической психофизиологии правая и левая половины тела энергетически диссимметричны, почему и ученик, совмещая правую руку с правой ногой наставника, обеспечивал некое правильное перетекание энергии в свое тело.
Характерно, что в некоторых случаях (в церемонии посвящения) этот обмен энергии происходил несколько иначе: учитель сначала обнимает ученика за плечи и дотрагивается до его груди (т. е. до сердца), а затем, прижимая свою руку тыльной стороной к сердцу ученика, произносит следующую молитву: «Под свою власть я беру твое сердце! Твой ум за моим умом да последует!.. Да соединит тебя Брихаспати со мною!» (Шапкхаяна-грихьясутра 2.3.3—2.4.1).
«Воспроизводительный» смысл этого обряда явствует из того факта, что то же самое священнодействие и с теми же самыми словами совершается во время свадебного обряда: жених дотрагивается до сердца невесты со словами: «Под свою власть я беру...» и т. д., но призывает при этом Праджапати — божество физического плодородия — вместо Брихаспати (соответственно духовного плодородия). Сугубая важность именно физического контакта во всех такого рода церемониях бесспорна.
Интересные примеры подобной передачи энергии от одного человека к другому (от врача к больному, от учителя к ученику, от иерофанта к мисту) сохранились в древних текстах других культур.
Так, Элиан следующим образом описывает процедуру магического исцеления человека, укушенного ядовитой змеей (Denature animalium 1628): сначала целитель должен «плюнуть на ранку»; если же это не помогает, он набирает в рот воду, держит ее там некоторое время, затем выливает в чашку и дает выпить больному. Если это опять не помогает, он раздевается догола и ложится на обнаженное тело укушенного человека, «передавая ему свою силу».
Последнее средство считалось, видимо, наиболее действенным. Еще более интересное описание подобного рода мы встречаем в библейской Книге Царств (4 Цар. 4.32 — 35): «И вошел Елисей в дом, и вот, ребенок умерший лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед; потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои».
Ср. аналогичный пример исцеления «отрока» пророком Илией (3 Цар. 17.17 — 22). Обратим внимание на важную деталь: собираясь приступить к исцелению, пророк Елисей «запер дверь за собою». Это значит, что вся процедура должна совершаться тайно, ибо представляет собой род ритуала.
В том же направлении указывают и священные числа — три (Илия совершает исцеление трижды) и семь (см. выше). Нельзя ли в таком случае понимать оба эти эпизода как завуалированное описание посвятительного обряда?
Этот вопрос приходится оставить открытым, но сравни интересное свидетельство талмудического комментария к Книге Царств (Шемот Рабба 19.1): «[Мать ребенка, умоляя пророка воскресить его, говорит]: Ты совершил божие таинство, когда вначале дал мне сына, а теперь соверши [еще раз] божие таинство и восставь его из мертвых» (цит. по [27, с. 181]). Следует также иметь в виду, что в большинстве инициационных обрядов адепт претерпевает ритуальную смерть.
Следующий пример подобного рода — египетский инициационный миф, описанный Плутархом в его трактате «Об Исиде и Осирисе» (357D — 358Е): после долгих странствий, разыскав тело умершего Осириса, Исида погружает гроб на корабль и плывет к дому. «Едва оказавшись в безлюдных местах и оставшись одна, она раскрыла гроб и, прильнув [к мертвому Осирису] лицом к лицу, целовала его, обливаясь слезами». После этого Исида рождает ребенка Гарпократа, о котором Плутарх специально сообщает, что «у него была атрофирована нижняя часть тела».
Смысл этого свидетельства можно уяснить из сопоставления с текстом Васиштха-дхармасутры 2.5 (см. выше в тексте), согласно которому нижняя часть тела — вместилище физической «мужской силы», а верхняя — соответственно духовной.
Гарпократ — духовный сын своих родителей, и это более всего подтверждается тем фактом, что Исида зачинает его от мертвого (т. е. физически мертвого) Осириса.
Перед нами, конечно, не исторический эпизод, а сакральная мифологема, которая в условиях реального обряда определенным образом воспроизводилась (разыгрывалась) жрецами.
Это приводит нас к следующему, типологически весьма сходному примеру — ритуальным священнодействиям, совершавшимся в ходе так называемых «великих» Элевсинских мистерий в Греции. Ввиду их особой сакральности (а это значит — таинственности, несообщаемости никому вне узкого круга посвященных) мы располагаем лишь весьма отрывочными сведениями о том, что происходило в ходе посвящения. Особый интерес поэтому представляют сообщения двух античных (точнее, раннехристианских) авторов.
Первый из них, Астерий (Migne, PG 40, 324), упоминает о происходивших в Элевсине «священных соединениях» иерофанта со жрицей, тогда как второй, Ипполит (Philos, 5.8.4), уточняет, что действия иерофанта, приводившие к духовному рождению адепта, были «далеки от всего плотского» (см. RE XVI, 2, с. 1244 —Хопфнер).
Эта удаленность «от всего плотского», на наш взгляд, вполне соответствует телесной «мертвости» Осириса в таинстве порождения Гарпократа.
Наконец, едва ли не самым интересным среди подобного рода фактов (см. подборку материала в книге М. Смита [27, с. 64 и сл.]) следует считать свидетельство Платона, приводимое им в диалоге «Пир». Как известно, участники диалога, собравшиеся на праздничную пирушку в доме поэта Агафона, по очереди произносят панегирики в честь бога любви Эрота. Платон располагает речи собеседников по линии возрастания их философской значимости и глубины. Последним по порядку выступает Сократ, устами которого автор развивает свое знаменитое учение об Абсолютно Прекрасном как о пределе, к которому должен стремиться каждый истинный философ: «Вот каким путем нужно идти в любви — самому или под чьим-либо руководством: начав с отдельных проявлений прекрасного, надо все время, словно бы по ступенькам, подниматься ради самого прекрасного вверх — от одного прекрасного тела к двум, от двух — ко всем, а затем от прекрасных тел к прекрасным нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным учениям, пока не... познаешь наконец, что же такое — прекрасное [само по себе]. И в созерцании прекрасного самого по себе... только и может жить человек, его увидевший» (211cd). К сожалению, речь Сократа, этот поток глубочайших идей, столь блистательно сформулированных, производит в целом тягостное впечатление: современный читатель не может абстрагироваться от знания о том, что «любовь», о которой здесь все время идет речь (Сократ, кстати, выступает в диалоге как «знаток любви» — 207с, «почитатель владений» Эрота, «всячески в них подвизающийся»,— 212b) и которая кладется Платоном в основание всей прогрессии к Абсолюту, это не что иное, как пресловутая «греческая любовь» юношей к юношам, присутствие которой, словно трупный яд, разлагает прекрасные слова и идеи.
Это противоречие, однако, получает неожиданное разрешение в заключительной части «Пира», где Платон описывает чисто мистериальную передачу «энергии» (т. е. личности) от учителя к ученику. При этом, говоря о вещах эзотерических, философ применяет тщательно продуманную технику сокрытия, «обесценивания» тех из ряда вон выходящих фактов, которые он сообщает.
Обратимся к тексту «Пира».
Едва Сократ успевает закончить свою речь, «в наружную дверь застучали так громко, словно явилась целая ватага гуляк, и послышались звуки флейты... Вскоре со двора донесся голос Алкивиада, который был сильно пьян и громко кричал, спрашивая, где Агафон...» (212cd) и т. д. Далее Алкивиад входит и после шутливой перебранки с Сократом произносит свою речь — панегирик, но уже не Эроту, а Сократу.
Из этого структурного соположения обоих персонажей (ведь оба от — объекты похвальных слов) следует вывод о некой божественности Сократа, эксплицитно затем неоднократно подтвержденный; и это хорошо согласуется с индийскими представлениями о божественности учителя (ср. выше). Однако критика, введенная в заблуждение сумбурно-дурашливой характеристикой Алкивиада в «Пире», не придала этим намекам должного значения. Наибольший интерес для нас представляет то место его речи, где описывается, как, пытаясь обменять свою «цветущую красоту» на «все, что он (Сократ) знает», Алкивиад приглашает его к себе в дом и проводит с Сократом ночь на одном ложе, «обеими руками обняв этого божественного, удивительного человека». После этого, продолжает рассказчик, «проспав с Сократом всю ночь, я встал точно таким же, как если бы спал с отцом или старшим братом» (219cd).
Слово «отец», употребленное в такого рода контексте, немедленно привлекает к себе наше внимание (ср. выше многочисленные древнеиндийские свидетельства о тождестве учителя и отца).
Этим словом Платон подчеркивает, что описанный Алкивиадом эпизод не имеет к «греческой любви» ровно никакого отношения; скорее его надо поставить в один ряд с только что описанными ритуалами передачи энергии от учителя к ученику.
В самом деле:
а) в речи Алкивиада многократно подчеркнут аспект таинственности происшедшего [см. 217е, 218с и особенно 218Ь: «Что же касается слуг и прочих непосвященных невежд, то пусть они свои уши замкнут большими вратами» — последние слова, сказанные непосредственно перед интересующим нас эпизодом, представляют собой перифраз орфического стиха, произносившегося перед началом мистерий,— см.: Платон.Соч., т. 2, с. 530 (примеч. 88), и Orphica, с. 144, 146—147, 166—167, 218 Abel]; таким образом, ритуальная значимость ночного эпизода подтверждается Платоном терминологически;
б) Сократ обладает особого рода «силой», «которая способна сделать (ученика) благороднее» (218е); по поводу мудрости ранее говорится: «Хорошо было бы... если бы мудрость имела свойство перетекать, как только мы прикоснемся друг к другу, от того, кто полон ею, к тому, кто пуст» (слова Сократа, 175d);
в) Сократ, по словам Алкивиада, «ничем не отличается от Марсия», напевы которого, «играет ли их хороший флейтист или плохая флейтистка, одинаково увлекают слушателей и благодаря тому, что они сами божественны, обнаруживают тех, кто испытывает потребность в богах и таинствах» (215с); ср. отмеченное ранее подчеркивание Платоном божественности Сократа;
г) прегнантное именование Сократа «отцом» (см. выше);
д) наконец, хорошо засвидетельствовано существование особых отношений между учителем и учеником за пределами Греции, в суфийской среде, находившейся, как известно, под влиянием неоплатонизма, а через него, возможно, и той традиции, к которой принадлежал сам Платон [4, с. 246 и примеч.].
Рассматривая этот — надеюсь, достаточно доказанный — факт тайной «платоновской инициации» в более широком контексте обрядов, связанных с «духовным рождением», отчасти перечисленных выше, можно без колебаний утверждать, что греческая педерастия возникла не иначе, как путем распада, деградации, профанации всех этих высокосакральных тайных ритуальных процедур. Здесь можно было бы сделать далеко идущие выводы о структуре платоновского учения, однако это не входит в нашу задачу.
16 Последнее утверждение, строго говоря, не вполне точно. Духовное рождение, конечно, не сопровождалось столь заметными манифестациями, как рождение физическое, однако какие-то воспринимаемые глазом изменения с телом ученика все-таки происходили. В Чхандогья-упанишаде 4.9.2 учитель, видя возвращающегося домой ученика, говорит ему: «Поистине, дорогой, ты светишься, словно тот, кто знает Брахмана. Кто же научил тебя?»
Аналогичный мотив в той же упапишаде 4.14.2, где состояние «знания Брахмана» отождествляется с духовным рождением. Что касается некоего состояния «брахманического сияния, свечения» (брахма-варчас) как особого вида сакральной энергии (в принципе физически воспринимаемого), то представления о нем были весьма широко распространены в эпоху брахманизма; они покрывают более обширный спектр явлений, чем собственно традиционное ученичество.
17 См. у Ману 2.135, 151, 152, 158 (в последнем стихе крайне интересное сравнение невежественного брахмана с существом, не производящим потомства,— кастратом), а также 2.169—172, 231; ср. подборку материала у Кане [24, т. 2, с. 321 и ел.].
В некоторых случаях обязанность обучать племянника возлагалась на его дядю по материнской линии (Патанджали, Махабхашья 3.3.18). Иногда «тремя высшими учителями» человека именуются отец, мать и гуру (Вишнусмрити 32.1; ср. также Курма-пурана 2.12.31—32).
18 Эта проблематика подробно рассмотрена в моей книге [8, с. 27 и сл., 114 и сл.].
19 Ср. точки зрения западных психологов: «...личность — это относительно стабильная организация мотивационных склонностей человека» (X. И. Айсенк и др.; см. [17, с. 779]); «Личность — динамическая организация тех психофизических систем человека, которые определяют его характерное поведение и мышление» (Дж. Олпорт; см. [15, с. 35б]).
20 Это единство опирается на закон психофизической корреляции, известный уже психологии прошлого века. Суть его состоит в том, что любое ментальное движение (впечатление, воспоминание и т. д.) вызывает моторную реакцию. И, наоборот, двигательное раздражение приводит в движение сферу психики.
«Если не учитывать возможных исключений,— пишет У. Джеймс,— то можно сформулировать следующий общий закон: каждый факт сознания вызывает движение, и это движение распространяется по всему телу, в каждом из его органов» [23, с. 492].
В этой психологической теории, для нас весьма интересен аспект тотального соучастия организма в каждом из его движений, причем именно этот аспект подчеркивает знаменитый американский психолог. «Теперь мы знаем,— продолжает Джеймс,— и это знание подтверждено экспериментально, что даже незначительное сенсорное возбуждение может изменить характер и интенсивность деятельности сердца, артерий, легких, потовых желёз. зрачков, мочевого пузыря, кишечника, матки, а также называемых произвольных мышц. Одним словом, каждый процесс деятельности в каком угодно нервном центре распространяется на все остальные центры; он оказывает в той или иной форме влияние на весь организм, ускоряя или замедляя его функции таким образом, что ни одна из них не остается вне сферы его влияния» [23, с. 493].
Если идею, заключенную в этих словах, продумать до конца, то станет ясно, что каждая мысль, каждый ментальный образ, вообще, в предельном случае, каждое воспринимаемое человеком слово вызывают вполне определенный ряд физиологических соответствий — изменений, движений, которые при желании можно воспроизвести (повторить), усилить, пронаблюдать.
Факты такого рода (хотя, конечно, в несколько иной форме) были хорошо известны древнеиндийским псяхофизиологам; однако здесь их пути и пути современной психологии расходятся в стороны.
Если современная наука стремится дать поверхностное описание (и систематизацию) возможно большего числа фактов и соответствий, то древнеиндийские ритуалисты пошли по пути культивирования, углубления замеченных закономерностей, тем самым подготовив почву для той более поздней системы психофизической тренировки, которая известна под названием «йога».
21 В частности, можно сказать, что такое «воспроизведение» личности, например, поэта в последующих поколениях придает известный смысл столь часто употреблявшемуся (у старых писателей) слову «бессмертие». Проанализируем с этой точки зрения вторую строфу известного стихотворения А. С. Пушкина:
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
На чем основывает поэт веру в бессмертие своей души? И что такое эта душа?
Очевидно, душа для него есть нечто такое, что продолжает жить «в заветной лире», т. е. в его творчестве, в поэзии. Но что такое поэзия для поэта? Это своеобразная, лишь ему присущая деятельность, результатом которой являются дошедшие до нас стихи, иначе говоря, запись речевого и ментального компонента (мы начинаем интерпретировать стихотворение в категориях ритуала) этой чрезвычайно сложной, с трудом воспроизводимой и для большинства читателей стихов, надо думать, совершенно недоступной деятельности. А если воспроизводимой и доступной — то для кого же? Что думает об этом поэт? Он выражает уверенность, что будет «славен», т. е. хранимую «в заветной лире» его душу смогут воспринять и полюбить читатели-поэты, «доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит».
Вот оно, условие воспроизводимости деятельности поэта и, значит, бессмертия его личности, его души:
только другой поэт способен настолько глубоко воспринять его слова, мысли и чувства (последние два составляют ментальный, «умный» компонент его деятельности), чтобы, достроив не зафиксированный в стихах параметр физического, телесного проявления поэзии, полностью войти в состояние пушкинской «деятельности» и в ней обрести живую душу поэта. Испытав эти неповторимые переживания, иной читатель Пушкина,, пытаясь хоть как-то выразить свою любовь к поэту, вероятно, сможет назвать себя его «сыном».
«Многому я учусь у Пушкина,— сказал однажды Л. Толстой,— он мой отец, и у него надо учиться» [10, с. 35]. Мы можем сказать, что надежда Пушкина на бессмертие, по крайней мере в этом случае, оправдалась.
В этой связи можно вспомнить примечательные рассуждения Л. Толстого о сущности художественного творчества вообще:
«В сущности, когда мы читаем или созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: „Ну-ка, что ты за человек? И чем ты отличаешься от всех людей, которых я знаю?"... Что бы ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев — мы ищем и видим только душу самого художника» (Поли. собр. соч., т. 30, с. 18—19).
«Немецкий словарь» В. и Я. Гриммов приводит любопытные высказывания некоторых писателей: Фосс, например, называл «отцом» Гомера, Хейзе— Виланда и Канта [т. 12(1), с. 22]. Отмечая необыкновенно глубокое Усвоение молодым Гёте ряда античных авторов, Р. Хардер называет его «немецким Гомером», затем «немецким Пиндаром» [21, с. 441—442]. Все такого рода высказывания, повторяю, суть нечто большее, чем простые мета-Форы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Алиханова Ю. М. Предисловие.— Индийская лирика II—X веков. М., 1978.
2. Брихадараньяка-упанишада. Пер. с санскр. М., 1964.
3. Леонтъев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
4. Мец А. Мусульманский Ренессанс. М., 1966.
5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1946.
6. Семенцов В. С. Бхагавадгита в традиции и в современной научной критике. М., 1985.
7. Семенцов В. С. К постановке вопроса о возрасте Бхагавадгиты.— Классическая литература Востока. М., 1972.
8. Семенцов В. С. Проблемы интерпретации брахманической прозы (ритуальный символизм). М., 1981.
9. Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1980.
10. Толстая С. А. Дневник 1860—1891. М., 1928.
11. Bhagavadgita (the) with a Commentary based on Original Sources, by R. C. Zaehner. Oxf., 1969.
12. Bodewitz H. Jaiminiya Brahmana. I. 1—65. With a Study Agnihotra & Pranagnihotra. Leiden, 1974.
13. Buhler G. The Sacred Laws of the Aryas. P. I—11. Oxf., 1879—1882.
14. Callewaert W. M. The Sarvangi of the Dadupanthi Rajah. Leuven, 1978. 15. Chaplin L P. Dictionary
of Psychology. N. Y., 1974.
16. Eliade M. La naissance mystique. P., 1948.
17. Eysenck H. ]., Arnold W., Meili R. Encyclopedia of Psychology. Fontana — Collins, 1972.
18. Gonda 1. Change and Continuity in Indian Religion. The Hague, 1968
19. Haas J. Recurrent and Parallel Passages in the Principal Upanishads and the Bhagavadgita.— JAOS. Vol. 42, 1922.
20. Hacker P.— Kleine Schrif ten. Wiesbaden, 1978.
21. Harder R.— Kleine Schriften. Munchen, 1960.
22. Hill W. D. P. The Bhagavadgita. Oxf., 1928.
23. James W. Precis de psychologie. P., 1946.
24. Капе P. V. History of Dharmasastra. Vol. II—III. Poona, 1941—1946.
25. Limaye V. P., Vadekar R. D. Eighteen Principal Upanisads. Poona, 1958.
26. Oldenberg H. The Grihya-Sutras. P. I—II. Oxf., 1886—1892.
27. Smith M. Clement of Alexandria and the Secret Gospel of Mark. Harvard University Press, 1978.
28. Sternbach L. Subhasita, gnomic and didactic literature. Wiesbaden, 1974.
- << Назад
- Вперед