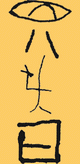ПОСЛЕСЛОВИЕ к статье Семенцова В. С. «Проблема трансляции традиционной культуры на примере судьбы БхагаватГиты»
ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ, ИЛИ О НЕСХОДСТВЕ СХОДНОГО
Прекрасную статью безвременно ушедшего от нас индолога Всеволода Сергеевича Семенцова поучительно читать и для того, кто занимается не Индией, а совсем другими вещами — европейской культурой, христианской традицией.
Между традициями так много сходства и так много несходства; при этом возможно, что там, где никакого особенного сходства на первый взгляд не видно, существенного сходства больше всего, но зато там, где сходство лежит на поверхности, различие на деле так глубоко, что простейшие понятия, начиная с самого понятия традиции, имеют различный объем и различное содержание...
Словом, заметки на полях возникают сами собой, и это должно быть вменено статье в похвалу.
Учительство как порождение в духе, ничуть не менее конкретное, чем телесное порождение, как отцовство, или, еще глубже и еще интимнее, как материнство,— похоже на то, что это мотив общечеловеческий.
У каждой традиции есть своя «эсотерика» — необязательно как искусственно оберегаемая тайна, но всегда как особая углубленность опыта традиции как традиции,— и мотив духовного порождения об этом напоминает.
«Учитель, посвящая в ученики, внутри своего чрева творит брахмачарина,— цитирует В. С. Семенцов ведический текст.— Его он носит в животе три ночи».
Христианские параллели известны всем. Сейчас же вспоминаются, например, слова апостола Павла: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос» (Послание к Галатам 4. 19).
И Павел как учитель членов общины ощущает себя не только отцом, но и матерью своих учеников, которых он должен снова и снова рождать в муках, пока в них не будут видны, как в произведенном на свет законном потомстве, родовые, наследственные черты, в данном случае — черты Христа как Учителя их учителя, Первоучителя, зачинателя их духовной генеалогии.
И здесь, стало быть, новое порождение ученика учителем есть одновременно новое рождение учителя в ученике. Все это так.
Мы различаем все тот же смысл в примелькавшемся, стертом выражении «лоно Церкви». Мы ощущаем внутреннюю неизбежность того, что наряду со всякой другой инициацией также и христианская инициация — крещение, т. е. таинство принятия во внутренний круг учеников «священного училища», как называл общину христиан Афанасий Александрийский (IV в.)1,— описывается в метафорах, взятых от реальности плотского рождения.
Неужели может человек в другой раз войти в утробу матери и родиться, спрашивает Никодим, и получает ответ: «Рожденное от плоти есть плоть; а рожденное от Духа есть дух» (Евангелие от Иоанна 3. 4 и 6). Рожденное от Духа — речь идет о духовном рождении от божественной силы.
Но Дух передается через людей, имеющих иерархическое положение в церковной структуре. Поэтому сходство с положением дел, описанным для Индии В. С. Семенцовым, еще полнее: не только божественный Учитель и божественный Породитель, но и носители авторитета как многочисленные «Учители Церкви» и «Отцы Церкви».
Уже во II в. апостола Андрея можно назвать «отцом нашим» (Деяние апостола Андрея 9), а епископа — «отцом христиан» (Мученичество св. Поликарпа 12. 2).
Чем дальше, тем больше самосознание церковной и специально монашеской традиции выражает себя в образах духовного отцовства. Повсюду «отцы».
Количество примеров можно увеличивать без конца, но достаточно общеизвестного. Всякий священник — для верующего «отец», «батюшка»; носитель авторитета в монашеской среде — «авва», что означает по-арамейски то же самое; почитаемая монахиня, имеющая харизму учительства,— «амма», по-арамейски «матушка», и т. д., и т. п.
Но весь этот эмпирически наглядный авторитаризм «учительства» и «отцовства» оспорен и поставлен под вопрос в самом своем принципе чрезвычайно важной евангельской максимой: «Вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос; все же вы — братья. И отцом себе не называйте никого на земле: ибо один у вас Отец. Который на небесах» (Евангелие от Матфея 23. 8—9).
Вот этого, как кажется, в древнеиндийской культуре не было и не могло быть. Соотношение евангельского текста и церковной практики способно вызвать недоумение: как же, Христос эксплицитно запретил такой способ выражаться, который в Церкви встречается буквально на каждом шагу.
На деле здесь тот же антиномизм в отношении к любому «зримому», явленному на земле авторитету, который вообще специфичен для христианства.
С духовным отцовством то же, что и с плотским отцовством: христианство не отменяет ветхозаветной заповеди: «Чти отца твоего и матерь твою»,— но ставит рядом с ней: «Кто... не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер...» (Евангелие от Луки 14. 26); «И враги человеку — домашние его» (Евангелие от Матфея 10. 36).
Сакраментальность авторитета, персонифицированного в личности плотского или духовного отца, перед которым необходимо склониться в послушной позе,— для христианской традиции необходимое предусловие, без которого она вообще не была бы традицией; однако не последнее, не окончательное слово.
Послушание людям поставлено под знак послушания Богу, но не отождествляется с ним до конца, между ними остается возможность зазора и драматической коллизии.
Не о гражданских, а о духовных авторитетах сказано: «Справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» И еще: «Должно повиноваться Богу больше, нежели человекам» (Деяния апостолов 4. 19 и 5. 29).
Конечно, реальное христианство нельзя вслед за некоторыми новейшими мыслителями типа Бердяева сводить к одному сплошному персонализму и «безосновной» свободе.
И оно не могло бы стоять, особенно в своих монашеских вариантах, без автоматизма навыков ритуализированного поведения, без разработки психофизических приемов, без аскетической анонимности, а прежде всего — без тренировки послушания. Но эта сторона предполагает иную и находится с ней в подвижном равновесии.
Духовного отца слушаются; но духовное отцовство само по себе остается, как и плотское, земным отцовством, наравне с ним требует исцеления от того, что наш век назовет «Эдиповым комплексом», наравне с ним допускает апелляцию к высшему суду. Эта установка делает христианскую традицию в бытовом плане гораздо более уязвимой, подверженной кризисам, заряженной проблемами, чем традиция индуизма с ее беспроблемным равенством себе.
В Индии религия может сохранять импонирующее спокойствие, потому что, с ее собственной точки зрения, не имеется ничего, что не было бы в конечном счете религией. Напротив, христианство всегда должно было заниматься апологетикой и обличением, так сказать, «объясняться» с миром и с самим собой. Недаром «боевой», т. е. динамичный, антитрадиционализм и атеизм явился на почве, подготовленной христианской традицией, которая веками разрабатывала идейные основания для своих собственных исторических оппонентов. Вольнодумство как пассивный скепсис было известно повсюду — в языческой античности, на Востоке; но под воздействием христианских ферментов вольнодумство впервые становится активным и революционным. Ведическая доктрина о духовном порождении как бы вводит родовое начало в область духа; христианство и в области духа, как и в области физической жизни, ставит родовое начало под вопрос.
Как странно звучат для европейского уха слова о двух видах мужской силы — «той, которая пребывает выше пупка, и другой, нисходящей, пребывающей ниже» (Васиштха-дхармасутра 2. 5)! Казалось бы, вот исчерпывающее объяснение, почему духовному «отцу» — священнику в католицизме, «старцу» в православии — пристало быть безбрачным. Трудно отрицать, что за христианской практикой целибата стоит аналогичная концепция, которая, однако, оставалась имплицитной, не выходя на поверхность, не получая такой массивной, тяжелой, плотной фиксации в словах. Для нашего восприятия в этой четкости есть нечто бесстыдное — почему, собственно? Не столько из-за плотских аналогий, которые отнюдь не чужды древнему христианству, хотя используются там все же осторожнее, сколько из-за того, что на наш вкус чересчур много сказано как раз о духовной реальности. Западная традиция скорее допускала отсутствие стыдливости в материях плотских, чем в материях духовных; скорее «Декамерон», чем тантризм.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1 О понимании Церкви как школы и состояния ее члена как ученичества нам приходилось говорить в другом месте: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977, с. 160—163. Там же указан ряд текстов, иллюстрирующих это понимание.